![]()
|
|
ДЕНЬ НЫНЕШНИЙ
Николай Родин
Присутствие женщины*
*Журнальный вариант. Повесть опублекована в сборнике "Танк и маленькие утята." — Рязань: Узорочье, 2000
| Перед непризнанной
любовью Я весел был в прощальный час. Но — Боже мой! С какою болью В душе очнулся я без вас! Какими тягостными снами Томит, смущая мой покой, Всё недосказанное вами И недослушанное мной. Я. Полонский |
I
Гостиница называлась «Волгой», тогда как до Волги из этого районного городка,
забившегося на дно Мещерской низменности, было добрых двести километров, и Ларешин
подумал, что гостиницу лучше бы назвать «Сосновым бором» или «Еловой рощей».
Мещера же, океан хвойных лесов!.. А то «Волга». Не пришей, не пристебай. Умеем
давать названия. Вот и в его городе взяли да и нарекли новый микрорайон «Черемушками»,
хотя там отродясь не росло, да и сейчас не растёт ни одной черемухи.
Не нравилось и название городка — Кладов. Что-то кондовое, ветхозаветное, из
лесной, разбойничьей старины.
Он стал думать так после того, как администратор гостиницы сказала: «Свободных
мест нет и едва ли они сегодня будут». А до этого у него было приподнятое, даже
вроде бы праздничное настроение — наконец-то он приехал в этот Кладов, в который
собирался столько лет! К тому же он в дороге совершил поступок, которым гордился,
и который произвёл впечатление на окружающих. А надо заметить, Ларешин любил
производить впечатление.
Автобус, на котором он ехал из своего Города, отправился на Кладов, имея свободные
места, и в дороге подбирал пассажиров. При этом шофёр — пожилой, коренастый
мужчина в коричневой кожаной куртке со строгим, суровым лицом — деньги брал,
аккуратно отсчитывал сдачу, а билетов не давал. Не давал и всё. И странно, люди
не протестовали — едут и слава Богу, что едут, а то вон некоторые остались на
вокзале, как ни просили. Когда же среди новых подсаженных в дороге пассажиров
оказался молодой человек, не имевший денег за проезд, шофёр потребовал от него
покинуть салон. Молодой человек, высокий, тонкий, стройный, в кургузой джинсовой
курточке и с дипломатом в руке, очень просил шофёра оставить его в автобусе,
торопливо и сбивчиво объясняя своё безденежье тем, что в его институте задержали
стипендию, а ехать надо — что-то такое в семье, с матерью. Но это не тронуло
шофёра. Он остановил свой «Икарус» на безлюдном месте в лесу и приказал молодому
человеку удалиться из салона.
– Вы не имеете денег за проезд, а я не имею права вас везти бесплатно. У меня
— хозрасчет.
– Я буду ехать стоя, — попросил молодой человек. — Можно стоя?
Кто-то из пассажиров сказал: пусть едет стоя, если хочет и если ему так нужно.
– Я не имею права перегружать машину, — объявил шофёр.
– Ну, довезли бы хоть до какой-нибудь деревни, — взмолился студент. — Что вы
меня в лесу высаживаете?
– Где нам удобнее, там и высаживаем.
Молодой человек что-то пробурчал и стал пробираться к выходу. И когда он протискивался
по узкому проходу между кресел, поднялся Ларешин.
– Водитель! — строго произнёс он в сторону кабины. — Сколько причитается с парня
за проезд?
– Отсюда до Кладова двести пятьдесят рэ... А что, у вас денег много?
Ларешин не ответил шоферу.
– Парень, — сказал он студенту. — Я заплачу за тебя. Садись на свободное место.
– Значит, лишние деньги, — буркнул шофер.
Ответа и на этот раз не было.
Ларешин достал бумажник, отсчитал двести пятьдесят рублей и передал нахохлившемуся
шофёру. И сразу вырос на голову в собственных глазах и в глазах пассажиров.
На него оборачивались, приветственно и одобрительно кивали, а соседка по сидению
— смуглая, темноволосая, с родинкой над густой бровью, похожая на индианку,
до сих пор глядевшая только прямо перед собой, — вдруг улыбнулась Ларешину и
подвинулась к окну, как бы предложив тем самым соседу усесться поудобнее. Потом
Ларешин и соседка разговорились. Её звали Алла Гавриловна, она работала в институте
усовершенствования учителей, собиралась на пенсию: ехала в Кладов за какой-то
справкой, и в разговоре оказалось, что у них совпадают взгляды на жизнь, так
что Ларешин был очень доволен, что хорошо проявил себя, заплатив за безбилетного
студента, и вообще он чувствовал себя героем дня... И вот такой резкий перепад
— нет мест в гостинице. Он совершенно не предполагал, что в гостинице районного
города нет мест.
– Не повезло, честное слово, — удрученно проговорил он, присаживаясь на деревянный
диванчик, приткнутый к стене. — Не иметь ни одного места! И это в новой гостинице!
И он, утомлённый многочасовой ездой в автобусе, стал хмуро и придирчиво осматривать
вестибюль. Художник-дизайнер, он, попадая в новые помещения — будь это жилая
комната, служебный кабинет или зрительный зал, — имел обыкновение мысленно переставлять
по своему вкусу предметы интерьера. Сейчас ему очень не нравилась картонная
табличка с аляповатой надписью: «Мест нет». Везде — в каком бы городе ему ни
пришлось побывать, в какую бы гостиницу он ни заходил — везде его встречала
эта отвратная картонка. И сейчас, тихо злясь на неё, он подумал, что впору бы
внести предложение в Госстрой, чтобы при строительстве новых гостиниц табличку
«Мест нет» выкладывать красным кирпичом над самым окошком администраторского
кабинета. Или рядом с названием гостиницы. То есть наверху — «Волга», а чуть
ниже — «Мест нет». Чтобы навек отбить у наших людей понятие о предназначении
гостиниц.
Затем его усталый, раздраженный взгляд остановился на окошке администраторского
кабинета. Оно было узкое и длинное, как амбразура дзота. Впрочем, и сам кабинет,
стоявший в вестибюле, был похож на дзот. Поразительно, думал Ларешин, учреждение,
которое по идее должно встречать гостей с распахнутыми дверями и распростёртыми
руками сотрудников, встречает глухим кабинетом с дзотовской амбразурой.
Вызывала неприятие и «доска объявлений», висевшая над диванчиком. На «доске»
коричневым клеем были припаяны машинописные листки с разными извещениями. Но
зачем, спрашивается, постояльцам гостиницы знать о благодарности, вынесенной
каким-то МПЖКХ бухгалтеру Шитиковой и о выговоре кочегару Генералову, явившемуся
на работу в нетрезвом виде? Кстати, что это за аббревиатура — МПЖКХ?.. Любят
наши чиновники составлять ребусы да кроссворды. Зайдешь к иному деятелю в кабинет,
а он сидит за столом, наморщив лоб, покусывая карандаш от умственного напряжения,
и можно подумать — составляет какой-то важный проект. А он, сердяга, всего лишь
разгадывает ребус. Вот и Ларешин взялся узнать — что такое МПЖКХ? Оказалось,
это местное коммунальное хозяйство (в старые годы — горкомхоз). Интересно, в
чью весёлую голову пришла мысль закодировать скромную контору в целый ряд букв?
– А в какую организацию вы приехали? — послышался из амбразуры неожиданно приветливый,
певучий голос женщины.
– Я приехал не в организацию, а к частному лицу, уважаемая. По сугубо личному
делу.
– И наверное, без командировочного удостоверения?
– Какое же командировочное удостоверение, если — по личному делу?
– Тогда придется подождать — личные дела у нас во вторую очередь.
– Это было...
– И сейчас.
– Не предусмотрел, честное слово, — пожалел Ларешин, — а то бы я привёз вам
целую дюжину.
– Вы кто — какой-то большой начальник?
– Я, уважаемая, художник-дизайнер.
– О-го?.. Так бы и сказали. А я — Серафима Сильверстовна. Но можете называть
меня просто Сима.... Вот и познакомились?
После такого представления Ларешин решил предложить гостинцы. Он достал из своего
большого, из «крокодильей» кожи портфеля пару шоколадок, припасенных на всякий
дорожный случай, и просунул их в окошечко амбразуры.
– Подождите какое-то время, — сказала после этого Сима, накрыв шоколадки журналом.
— Что-то должно проясниться.
Как потом окажется, Сима имела в виду двухместный номер «люкс», предназначавшийся
перекупщику Жоре, с которым у нее были близкие отношения и который вот-вот должен
вернуться с товаром из Турции. Но шли дни, а Жоры всё не было, и дорогой номер
пустовал. Очень возможно, что и сегодня Жора не появится и «люкс» прогуляет.
Но нет, сегодня Сима постарается его заселить, и пусть тогда этот треповатый
Жора устраивается в четырёхместном номере, как простые люди.
– А пока погуляйте, — сказала Сима Ларешину. — Подышите воздухом. Все приезжие
хвалят наш воздух. Говорят, в Городе уже нет такого чистого, лесного воздуха.
Кстати, подкрепитесь с дороги. У нас на днях новое кафе открылось, «Уют» называется.
Туда по случаю открытия даже пиво привезли.
Ларешин внял совету Симы.
Кафе помещалось в нижнем каменном этаже двухэтажного дома. В раздевалке Ларешина
встретила молодая крепколицая гардеробщица и сказала, что входить в зал в верхней
одежде запрещено, но головные уборы можно не снимать во избежание недоразумений.
– А то, бывает, повесит гражданин в гардеробе кроличью шапку, а, выходя, надевает
чужую — ондатровую или каракулевую; так что шапки и шляпы — с собой.
Кафе, судя по густому запаху масляной краски и белизне стен, было открыто на
днях. Как заметил Ларешин, в оформлении зала чувствовалась рука неопытного художника.
Задняя стена была отделана бугроватой штукатуркой «под шубу» и выкрашена черной,
тяжелой краской; в «шубу» были вделаны разноцветные осколки бутылочного стекла.
Осколки сверкали. Вероятно, художник хотел изобразить ночное небо со звёздами,
но образ ночи можно было почувствовать лишь при богатом воображении, другие
же стены были девственно белы, и Ларешин подумал, что контраст слишком резок,
надо, чтобы и на этих стенах была какая-то декорация.
В зале стоял гвалт мужских голосов, цоканье пивных кружек, и буфетчица в белом
колпаке с каким-то значком долго не замечала Ларешина, пристававшего в этот
прибыльный пивной вечер с какими-то жалкими паровыми котлетами. Наконец заметила,
крикнула через плечо на кухню, чтобы принесли биточки, и Ларешин пообедал.
Когда он, расплатившись, собрался уходить, к нему подсел темный, мятый тип с
испитым лицом в шляпе на затылке и резиновых сапогах.
– Вы, как я вижу, приезжий гражданин? — сказал тип.
– Да.
– Разрешите представиться? — И, не дожидаясь разрешения, сообщил. — Вениамин
Иванович, местный уроженец, по культурному — абориген, но можете называть меня
просто Веня.
– Очень приятно.
– Так вот, на правах аборигена я обязан познакомить вас с некоторыми местными
традициями.
– Сделайте одолжение.
– В старину, — сказал Веня, — в нашем достославном граде существовал обычай
взимать плату за въезд.
– По-нынешнему — рэкет? — насторожился Ларешин.
– Ну, зачем такие сильные выражения? — кротко произнёс Веня. — Речь идет всего-навсего
о бутылке пива.
Ларешин достал бумажник, отсчитал нужную сумму.
– Благодарю вас, — театрально поклонился Веня, — да не оскудеет рука дающего.
– Да не оскудеет, — подтвердил Ларешин. Уверенный ответ гостя воодушевил аборигена
на новые предложения.
– А еще могу рассказать анекдот. Весёлый анекдот.
– Ну, если веселый...
– Но он платный. Удивлены? Не удивляйтесь. Сейчас всё платное. Рынок!.. Сервис!..
– Ну, расскажите, — сказал Ларешин, у него оставалось много свободного времени.
– Встретились два друга, — начал Веня. — Один из них недавно получил квартиру
и по этому поводу несколько дней выпивал. Встретившись, друзья выпили, и очень
сильно. И тот, что получил квартиру, пригласил друга к себе, показать своё недавно
приобретенное жильё. А был уже поздний вечер. Пришли. «Это вот прихожая, — стал
объяснять друг. — А это — зал. А вот это — спальня. Вон на кровати лежит моя
жена. А рядом с ней, усатый, это — я».
Ларешин неожиданно рассмеялся, что, должно быть, очень понравилось рассказчику,
и он протянул руку за вознаграждением. Ларешин дал на водку и поспешил распрощаться.
... Сима встретила его улыбкой на полнеющем, миловидном, с подвижными бровями
лице.
– У нас кое-что прояснилось, — сообщила она. — Вас устроит «люкс»?
– О чём разговор! — сказал повеселевший от анекдота Ларешин.
– Но он у нас стоит тридцать две тысячи. И еще вы должны заплатить за предыдущие
сутки как за бронь. — Сима взимала за простой «люкса» по вине треповатого Жоры.
— А еще в «люксе» стоит холодильник и телевизор...
– Хорошо, хорошо, — покорно соглашался Ларешин. Ему не терпелось скорее вселиться
в гостиницу. — Заплачу и за телевизор, и за холодильник.
– И последнее: «люкс» двухместный, так что, возможно, к вам будет подселён еще
один товарищ.
– И, конечно, храпун?
– Возможно.
– Вот этого бы не хотелось.
– А другого ничего нет.
– Что ж, вселяйте.
Ларешин заполнил анкету, подписал какое-то обязательство, уплатил деньги.
Сима, не читая, положила анкету и деньги в шкатулку на столе.
Ларешин вспомнил байку, рассказанную начальником его отдела Станиславом Богданкевичем,
который, будучи в командировке, при вселении в гостиницу в анкете на вопрос
«цель приезда» написал: «взорвать ваш город» — о чём в гостинице прочитали только
в день отъезда Богданкевича.
– На второй этаж, — сказала администратор. На втором этаже Ларешина встретила
молодая, плотная женщина с черными, мелко завитыми волосами, взяла квитанцию,
записала в журнале, дала ключ.
– Только должна предупредить, — добавила она, — что у нас плохая звукоизоляция...
в смысле — слышно очень. И душ не работает... И вода не всегда.
Говоря это, она глядела куда-то сквозь Ларешина, словно его перед ней и не было.
«Как-нибудь проживу», — подумал Ларешин. Войдя в номер, он быстро разделся,
лег, чувствуя, как гудят ноги и бьется кровь в висках... Нужно было скорее заснуть,
но что-то мешало ему. Ага, запах табачной гари от керамической пепельницы, стоящей
на тумбочке. Ларешин заставил себя подняться с постели и отнес пепельницу под
раковину и снова лег. Теперь не давала заснуть тощая подушка; Ларешин свернул
ее вдвое, придавил головой. «Теперь, кажется, все, — подумал он. — Все-таки
приехал устроился».
Обычно вечерами, готовясь ко сну, Ларешин подводил итоги дня. Такая уж у него,
одиноко живущего человека, выработалась привычка — обернуться назад, посмотреть,
как прожил день. Нынешний день можно отнести в актив — главное, осуществил свое
давнее, ставшее уже неотвязчивым желание, приехал, наконец-то, в этот Кладов.
Но если бы не приехал сейчас, этой осенью, в свой очередной отпуск, то едва
ли бы вообще когда собрался — в пятьдесят с лишним лет тяжеловато стало подниматься...
А если бы не приехал, продолжал размышлять он, то, наверное, очень бы потом
сожалел и упрекал себя, что вот сдался обстоятельствам, не преодолел своей инертности,
не поборолся за себя; и тогда бы его жизнь во многом утратила свой смысл...
Да, да!.. И еще он был доволен тем, что поселился в «люксе», а в дороге помог
безбилетному студенту и познакомился с хорошей женщиной .
И все-таки, спустя время отметил он, полного удовлетворения не было — очень
уж долго, битых два часа ждал вселения в гостиницу. Два часа унизительного,
заискивающего поведения; с какой почтительностью отвечал он на вопросы администратора,
как подобострастно смотрел ей в глаза; оставалось только становиться во фрунт
и прикладывать руку к шляпе... Лакейское раболепие из-за места в гостинице.
А как бы надо было вести себя?! Достойно, немногословно, корректно.
«Могу ли я устроиться в вашей гостинице?» — спросил бы он.
«У нас нет мест, и к тому же у вас нет командировочного удостоверения», — ответила
бы администратор.
«Ваш ответ окончательный?»
«Нет, зайдите попозже, вечером, может что-то и прояснится» «Благодарю вас, до
скорой встречи!»
И пошел бы с гордо поднятой головой в кафе и поужинал бы, а затем прогулялся
и через час явился бы снова.
«Прояснилось у вас что-нибудь?» — спросил бы он.
Оказывается, прояснилось. Дежурная подает бланк. Он быстро и четко заполняет
его. Дежурная называет сумму за проживание в «люксе». Он, не удивляясь высокой
цене на «люкс», платит деньги, получает квитанцию и ключ.
«Второй этаж, — любезно говорит дежурная, — направо по коридору, комната номер
десять, «люкс».
«Благодарю вас, вы очень любезны», — сказал бы он и четкими, уверенными шагами
поднялся бы по лестнице в свой «люкс».
Все было бы исполнено приличия и достоинства. Вот таким он должен быть всегда.
И таким он будет, честное слово!
Но сколько раз он пытался заставить себя быть таким, столько раз и забывал о
своем обязательстве перед собой. И снова был мягким, уступчивым, даже подобострастным,
будто был вечным должником перед всеми. Он первым здоровался, последним садился
в троллейбус, подробно отвечал на вопросы, никогда первым не прерывал разговора;
хотя бы этот разговор был ему неинтересен; он терпеливо и вежливо ждал, когда
ему скажут «до свидания» подадут руку, если вообще подадут...
Как всегда после утомительной дороги или после тяжелой работы, Ларешин долго
не мог заснуть. А сейчас он не мог заснуть еще и потому, что было очень шумно.
Гостиница, тихая днем, вечером наполнилась звуками... Где-то гремело радио.
По коридору то и дело раздавались шаги постояльцев и в «люксе» в такт шагам
что-то позванивало, кажется, граненый стакан, надетый на графин со старой желтой
водой. Кто-то горластый и яростный кричал на весь этаж:
– Ан-зор!.. Ан-зор!..
Потом, как понял Ларешин, в номер горластому постояльцу постучали и урезонивающе
спросили крепким мужским голосом, почему это человек кричит на всю гостиницу?
– Я не вам кричу, — был ответ. — Я другу кричу.
– А где ваш друг?
– Раз, два, три, четыре, пять. Через пять номеров. На том конце. В гости зову.
– Так вы потрудитесь сходить к нему.
– Это вы потрудитесь... Ан-зо-о-о-р!..
Ларешин почувствовал, что теперь он долго не заснет. Он оделся, вышел из номера,
прошелся по коридору, сел в холле на единственное кресло напротив стола дежурной.
– А шумновато у вас, честное слово! — пожаловался он.
Дежурная пожала плечами.
– Лежит на постели в своем номере и зовет какого-то Анзора. Анзор же за пять
номеров, на другом конце гостиницы.
– Да и нет его сейчас, Анзора, — сказала дежурная. — Еще не пришел.
– Тем более... Я смотрю, много кавказцев в гостинице живет, — сказал Ларешин.
— И чего только они тут делают, в этой глубинке?
Дежурная, видимо, хорошо знала, что они тут делают и заступилась за них:
– Между прочим, если бы не они, то мы в своем захолустном Кладове и не знали,
что такое мандарины, например. Или чай.
Ларешин не возразил насчет мандаринов и чая, он только сказал, что никогда не
думал, что в гостинице районного городка так трудно получить место.
– Ну, в большом городе трудности с гостиницей еще можно как-то объяснить, —
сказал он. — И то — объяснить, но не оправдать. Однако в районном захолустье!..
Слова о захолустье задели дежурную.
– Знаете что, — возразила она. — Это как одна бабка... Приехала в Москву, на
Казанский вокзал, сошла с поезда, а кругом — народ. С сумками, чемоданами, спешат,
толкают друг друга. «И куда это только люди едут! — удивилась бабка. — Я-то
хоть к сыну...»
Ларешин неожиданно рассмеялся: хорошо она его поддела, эта симпатичная, кудрявая
дежурная — смех вызвала, а сама даже не улыбнулась.
– К нам по осени очень много за картошкой едут, — стала пояснять она. — С Мурманска,
с Ростова. Живут целыми бригадами. Одни уезжают, другие приезжают. Некоторые
на всю осень номера бронируют. И номера становятся вроде бы наследственными.
– Кавказцы тоже так живут, — сказал до сих пор тихо сидевший в углу дивана мужчина
в синем спортивном костюме и в тапочках на босу ногу. — Тоже номера по полгода
держат.
Дежурная бросила взгляд в его сторону, видимо, хотела что-то сказать, но не
сказала — поднялась из-за стола и пошла по коридору по каким-то своим делам.
Ларешин, посидев, отправился в свой номер. Гостиница по-прежнему гудела голосами,
топотом ног, где-то гремел телевизор, и Ларешин решил, что, по-видимому, сегодня
он обречен на бессонницу. Так что нечего и пытаться заснуть и надо занять себя
чем-нибудь, включить телевизор, что ли?..
В телевизоре работала только одна, первая, программа. Долговолосые парни, одетые
в какую-то бесформенную рвань, безобразно, кривляясь, бренчали на электрических
гитарах и пели жидкими женскими голосами бессмысленные тексты, сопровождая пение
непристойными движениями. «Давайте, давайте, — мысленно обратился Ларешин к
волосатым, женоподобным парням. — Но только без меня». И выключил телевизор.
Он не выносил безголосых, преднамеренно неряшливо одетых молодых людей. Вспомнились
слова какого-то писателя: непристойные движения рождают непристойные мысли.
Освободив себя от телевизионного шума, Ларешин почувствовал облегчение и занял
себя воспоминаниями. Самыми хорошими воспоминаниями были те, это как он встретился
с Ингой.
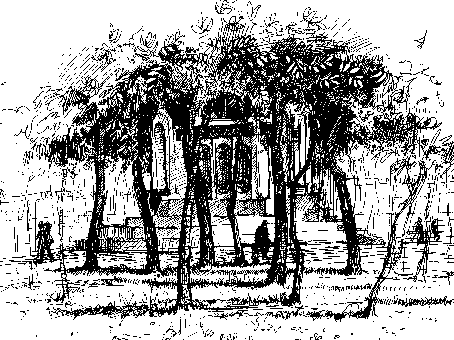
Татьяна Захарова. Деревья. Рязанское художественное училище.
II
Он приехал в Кладов во второй раз. А первый раз он был здесь ровно тридцать
лет назад. Тогда он начинал работать в областном управлении культуры, методистом.
Он стал методистом случайно и принял свою новую должность, как подарок судьбы.
Как было...
В областном городе начинали строить большой машиностроительный завод. Газеты
и радио созывали на стройку молодежь, обещая обучению профессиям токарей, слесарей,
фрезеровщиков... А Петр Ларешин только что вернулся с воинской службы, до которой
он работал избачем в своей деревне, и у него, по существу, не было ничего: ни
профессии, ни образования, ни сносной одежды-обуви. И он поехал из своих соломенно-деревянных
Вешняков на строящийся завод.
Едучи туда, он думал, что сразу же, по приезде, его пошлют в цех, поставят к
станку, под руку опытному мастеру и скажут: «Овладевай». И он со временем приобретет
хорошую профессию, станет квалифицированным (даже высококвалифицированным!)
рабочим, его будут
ценить на заводе, директор станет здороваться с ним за руку и будет посылать
на ответственные участки работы; само собой разумеется, он будет получать высокую
зарплату, женится на красивой девушке из рабочей среды, но хорошо воспитанной
и образованной; ему дадут большую квартиру... Но его чаяния не сбылись.
Во-первых, к большому его разочарованию, еще не было никакого завода — он еще
только зарождался, и стоял лишь двухэтажный кирпичный дом барачного типа, в
котором размещалось несколько токарных и фрезерных станков. На заводе не было
ни общежития, ни столовой. Ларешин поступил учеником токаря, снял угол у старой
вдовы в ближайшем поселке.
В первый же день он и четыре его товарища были посланы на станцию выгружать
кирпич для завода. На другой день тоже была выгрузка кирпича. Потом разгружали
чугунные отливки, цемент. Две недели работали на камнедробилке, еще две на прокладке
железнодорожной ветки к заводу. Ларешину пришлось побыть и разнорабочим по двору.
Работа была тяжелой, особенно на камнедробилке. Его обязанностью было отгребать
совковой лопатой из-под желоба камнедробилки щебенку. Камень не давался лопате
и отгребался тяжело. Откинешь одну лопату, а на это место машина высыпала уже
на две лопаты. Отгребать приходилось согнувшись, дышать было тяжело, в голове
мутилось от напряжения, и он не успевал, и на него покрикивали. Но он не отругивался,
ему просто некогда было распрямиться, он даже не успевал вытирать пот, который
буквально заливал глаза. И не приходило в голову пожаловаться на тяжелую работу.
А зря. Потом, когда на камнедробилку была поставлена другая бригада, сказали,
что камень отгребать должны двое рабочих, а не один.
Вообще-то вся работа на заводе была трудной. Но удручало не это. Удручало то,
что профессиональной учебы не велось, это только обещалось, и до профессии токаря
или фрезеровщика было далеко, как до неба. Но главное для Ларешина — платили
по ставке ученика, какие-то рубли, а столовой не было и приходилось питаться
всухомятку; в еде преобладали кильки, и это обострило гастрит, нажитый еще в
голодном, промерзлом военном детстве, в желудке стали появляться боли. Он сходил
в здравпункт, его обследовали и велели сменить условия жизни и работы. Пришлось
рассчитаться.
Он забрал на своей квартире в поселке самодельный фанерный чемоданишко, запиравшийся
оконным шпингалетом, и отправился на вокзал, чтобы ехать домой, в свои Вешняки,
к матери. Там была крыша над головой, было вволю картошки и козьего молока —
там была жизнь. Он уже купил билет и в ожидании поезда слонялся по вокзальной
площади, когда неожиданно встретил своего троюродного брата Кирика.
Кирик был значительно старше Ларешина, он давно уже жил в городе, и вешняковские
жители говорили про него, что он «вышел в люди», то есть работает водителем
«Волги», возит самого начальника управления. Они разговорились. Деловой, многоопытный
Кирик сразу же решил, что его родственник совершает большую ошибку.
– Ты что... Совсем того?.. — Кирик повертел пальцем у кудрявого седеющего виска.
— Люди — в город, а ты — из города?.. Не чуди, не сходи с ума. Ну куда ты поедешь?
— вопрошал он с высоты своего большого роста. — На съедение вешняковскому вурдалаку?
Так он тебя съест за милую душу вместе с твоими босоножками. Тебе охота, чтобы
тебя съели?!
Вурдалак — прозвищная кличка Федосея Косилёва, председателя вешняковского колхоза,
который был сущим наказанием для деревни. Старые люда говорили, что вешняковцы
чем-то провинились перед Богом и он послал им на многие годы в виде кары этого
председателя.
– Так что не делай глупостей, — продолжал убеждать Кирик своего земляка и родствен-
ника. — Оставайся, я устрою тебя на приличную работу.
И Ларешин послушался. Кирик тут же посадил его в зеленую «Волгу», на которой
доставил к поезду какую-то женщину, и повёз в управление культуры к своему начальнику.
И вот бывают же чудеса на свете! Оказалось, то, чему Ларешин не придавал никакого
значения, в управлении имело цену. Ну, например, то, что он умеет писать плакаты
и оформлять стенды, играет на гармони и гитаре и некогда участвовал в драмкружке.
И удивительно, этого хватило на то, чтобы начальник предложил ему должность
исполняющего обязанности методиста в областном управлении культуры с тем, однако,
условием, что новый сотрудник будет повышать свое образование, станет учиться
в заочной средней школе. Ларешин охотно принял предложение, и его не смутило,
что должность была разъездной, невысокооплачиваемой, да и квартиры не обещалось.
Но зато звучало — методист областного управления культуры! А Ларешин любил,
чтобы звучало, хорошо смотрелось. Это в нем с детства. Его, новоиспеченного
методиста, после двухдневного инструктажа в управлении послали в Кладовский
район проверять работу клубов и изб-читален.
Сентябрило, стояла ветреная погода, а на Ларешине был доармейский ветхий пиджачок
спортивного покроя и тонкие брюки, на которых не держалась складка, да сандалеты,
состоящие из двух перекрещивающихся ремней на кожимитовой подошве. Конечно,
будь это сейчас, Ларешин, получив командировочные, задержался бы на полдня в
городе, купил бы себе какую-нибудь недорогую теплую вещь, фланелевую рубаху,
например, и тогда бы уж поехал. Но он был во власти благодарного чувства за
предоставленную ему высокую, так ему казалось, должность, и надо было показать
себя с наилучшей стороны, и он немедля отправился выполнять задание.
Приехав в тот же день в Кладов, он представился заведующему районным отделом
культуры, переночевал в Доме колхозника, (тогда этой гостиницы в городе еще
не было) и отправился в район. Он ходил по глухим лесным кладовским селениям,
проверял работу их культурных очагов.
А между тем холодало, и Ларешина пробирало до костей в его поношенном костюмчике
и пляжных сандалетах. Чувствуя, что заболевает, он через силу проверил работу
последнего по списку в районе, Лодягинского клуба и, увидев на одном из пятистенных
домов села вывеску «Медпункт», решил попросить каких-нибудь таблеток.
В «медпункте» его встретила девушка в отглаженном белом халате, тонкая, румяная,
с широкими темно-серыми, радостными глазами. Девушка была веселой, общительной,
так что, когда Ларешин на вопрос, как его зовут, ответил: «Петр Алексеевич»,
она сказала:
— А меня зовут Ингой Алексеевной, но я не обижусь, если меня назовут просто
Ингой.
– Петр, Петр, — поправился он и тоже повеселел. — Просто Петр... Петр-Петрушка.
Она подала ему градусник и стала заполнять карточку.
Температура была довольно высокой — тридцать восемь.
Инга велела ему раздеться до пояса и стала прослушивать. А прослушав, сказала,
что, слава Богу, внутри у него ничего нет.
– Так уж ничего? — усмехнулся он. — Пусто там?
И они оба рассмеялись, и смеялись долго, как будто бы это было Бог знает как
смешно.
Потом она велела ему лечь на деревянный диван и стала ставить банки. Банок было
много, и они стянули спину, как дратвой. Однако это было приятно, и когда Инга
стала отдирать их, он, пожалел, что эта процедура уже закончилась и, наверное,
скоро надо будет уходить. А куда уходить?..
Но и Инге, видимо, не хотелось, чтобы он скоро ушел.
– Это весь ваш гардероб? — спросила она, когда он надел свой затасканный, серо-голубой,
спортивного покроя пиджачок.
Он сказал на это, что не ожидал холода в середине сентября и потому так легко
оделся. Ларешин хитрил (он всю жизнь боялся показаться несостоятельным) — просто
у него нечего было надеть, кроме этого обветшалого костюмчика. В деревне кое-что
осталось: шапка, сапоги, военный бушлат, а здесь ничего, только вот этот пиджачок,
легкие, крутящиеся при ходьбе брюки и сандалеты.
– Вам надо полежать, — посоветовала Инга. — Хотя бы сутки. Вы где остановились?
Он ответил, что еще нигде не остановился — весь тут.
Тогда Инга позвала свою санитарку. Ларешин запомнил, что санитарку звали тетя
Лиза и дом, в котором размещался медпункт, принадлежал ей. Тетя Лиза жила во
второй, меньшей половине одна и охотно поселила приезжего человека. Он запомнил
также, что, несмотря на свою температуру, за ужином он аппетитно ел горячую
картошку с солеными огурцами и искренне благодарил хозяйку, на что та отвечала,
что ее благодарить нечего, подумаешь — картошка с огурцами; эту еду в деревне
и за угощение-то не считают. А вот Ингу, медичку, благодарить есть за что —
внимательная, заботливая, приглядная, вот только семейная жизнь у нее не заладилась.
Скоро пришла и Инга. Она, оказывается, пришла сказать, что по радио обещают
дальнейшее похолодание, в отдельных местах даже заморозки на почве; так вот,
как Ларешин будет добираться? Ведь и так уж простужен, температурит. А от Лодягина
до шоссе, где автобусная остановка, три километра. И как он в своем легком костюме
дойдет туда? Может, переждет дня два в Лодягине, пока не потеплеет? Должно же
потеплеть, ведь еще только сентябрь!
Но его переполняли впечатления от поездки и влекло в город, в управление, чтобы
этими впечатлениями поделиться. И тогда Инга поскучнела, а ему показалось, что
она жалеет его, и он уверил, что ему никакие холода не страшны, что в армии
(а он служил в северном Казахстане) не такие холода приходилось переносить,
земля от морозов трескалась, да к тому же бесконечные жестокие ветры...
Инга, помнится, согласилась, что в городе, конечно, интересней, но согласилась
как-то ревниво, а он по простоте своей стал нахваливать город, говорить о спектаклях
и концертах, которые идут в областном драмтеатре, о кинокартинах, хотя по недостатку
денег только два раза ходил в кино за всё лето. Она слушала, вздыхала и сетовала,
что в Лодягине, да и вообще в деревне ничего подобного нет и некуда сходить,
отвести душу; приезжала однажды театральная труппа, но это было Бог весть когда...
Ларешин сказал, что жизнь идёт к тому, что театры скоро станут частыми гостям
в деревне; вот в ряде районных центров уже действуют народные театры, вполне
возможно, что со временем будет народный театр и в Кладове. Инга призналась,
что давно мечтает сыграть хотя бы одну роль в настоящем, несамодеятельном, театре,
в спектакле с мастерами сцены, с известными мастерами, подчеркнула она... А
Ларешин сказал, что он хотел бы стать художником...
Потом он провожал её. В тёмных и тёплых, пахнущих укропом и сухими берёзовыми
вениками сенях они долго не могли найти дверную задвижку. Стояли рядом, топтались,
касались друг друга и вдруг обнялись и поцеловались длинным, затяжным поцелуем.
И стали целоваться горячо, сладостно, забыв о ларешинской простуде, о дверной
задвижке, обо всём на свете. Но когда Ларешин стал было давать волю рукам, она
неожиданно резко отстранилась от него и через несколько мгновений была за дверью,
на улице.
... Ларешин решил остаться еще на один день.
Утром к нему в тётилизину половину пришла Инга и принесла таблетки стрептоцида,
бидончик тёплого топлёного молока, рассказала, как это надо пить, и велела побыть
в постели.
Он полежал часа полтора, заскучал и решил пойти к Инге в медпункт. Посидел несколько
минут в её кабинете и почувствовал, что своим праздным присутствием смущает
пациентов и отвлекает Ингу от дела. Это вызвало у него желание чем-то занять
себя... Вспомнил: вчера, направляясь сюда, обратил внимание на вывеску — это
был косо висевший на углу дома проржавевший лист железа с тощими и выцветшими
буквами «Медпункт». И вчера же подумалось, что вывеску пора заменить. Поэтому
сейчас, когда Инга проводила до двери очередного пациента, он сказал:
– Мне ваша вывеска не нравится.
– Моя ? — улыбнулась Инга и показала пальцем на грудь. И они оба дружно рассмеялись
и смеялись долго и как-то легко, как будто это было действительно очень весело.
– Заведующая медпунктом яркая, а вывеска блеклая, — добавил он. — Не соответствует.
Надо заменить.
– Кого заменить? — снова засмеялась Инга, и Ларешин тоже засмеялся.
– Вывеску, конечно, — сказал он сквозь смех. — А заведующая пусть остаётся такой
же красивой на всю жизнь.
– Какой откровенный комплимент.
– Вот именно, что откровенный.
Инга, помолчав, сказала, что замена вывески — задача не самая актуальная. У
лодягинского сельсовета сейчас не только на вывески — на дрова да на ремонт
колодцев денег нет.
– Обойдёмся без сельсовета! — похвалился Ларешин. — Я в своей жизни разных вывесок
да плакатов понаписал ой-ей-ей сколько!
– Но вы же нездоровы, — напомнила Инга.
– Не будем — о здоровье, — отмахнулся Ларешин. — Вы лучше найдите полбанки масляной
краски. Есть в Лодягине у кого-нибудь масляная краска?
Инга предположила, что масляная краска, наверное, есть у Семёна Васильевича,
ветеринарного фельдшера, он свой ветпункт по лету красил, возможно, у него что
и осталось.
– Сбегаю, — сказала она.
Инга сняла свой медицинский халат, взяла велосипед и покатила к ветеринару.
И к большой радости Ларешина, привезла две банки краски: в одной была — зелёная,
в другой — бордовая. Правда, краски в банках оставалось уже мало, но сметливый
ветеринар дал в придачу початую бутылку олифы, которая была очень кстати, Ларешин
не мешкая соскоблил с обветшалой, проржавевшей вывески старую краску, загрунтовал
и пустил по зеленому полю железного, обновленного листа веселый, стройный ряд
букв: «Лодягинский медпункт». Оставалось место для красного креста, но не было
нужной краски, и Ларешин, с согласия Инги, нарисовал крест бордовой краской.
Пока сохла краска, он починил рамку для вывески. И вот, после довольно долгой
работы вывеска была готова, Ларешин поднял её на карниз и поместил не на углу,
где она висела до сих пор, а над средним окном, и теперь вывеска, симметрично
расположенная, украсила, освежила собой старый пятистенный дом. Инга светилась
от радости.
– Нет слов! — восхищалась она. — Вкус!.. Неужели?!.. Прямо не ожидала.
Ларешин, размягченный хорошо выполненной работой и радостью Инги, не удержался,
похвалился:
– В армии было... Приехал однажды в нашу роту командир полка, посмотрел мои
плакаты и сказал, что они «художественно вкусные»...
– Да уж наверно... Во вкусе вам не откажешь.
Вечером, после работы, Инга собрала в половине тёти Лизы маленькое угощение
и отблагодарила Ларешина стопочкой разведенного спирта, пригубила и сама. Повеселев,
принесла из Лодягинского клуба гитару, и они поочередно играли и пели романсы,
всё почему-то больше на слова Полонского:
Мой костёр в тумане светит...
Этот романс они спели складно, с чувством. Потом пошли романсы малоизвестные,
их извлекал из своей памяти Ларешин, кажется, он и музыку к ним сочинял. Пел
и тепло и нежно обволакивая Ингу карими, широкими глазами:
Соловей поёт в затишье сада;
Огоньки потухли за прудом;
Ночь тиха. — Ты, может быть, не рада,
Что с тобой остался я вдвоём?..
А потом, когда тётя Лиза собралась и ушла к какой-то своей товарке на дальний
конец села и долго не возвращалась, Ларешин, как и вчера, потянулся к Инге.
– Нет, нет, — протестовала она, отбрасывая от себя его цепкие и еще пахнущие
масляной краской руки.
А он снова лез к ней со своими объятиями, уговорами и стал жадно целоваться.
Когда же он попытался раздеть ее, она неожиданно сильным движением вывернулась
из его объятий и метнулась к двери. Он шагнул следом. Как и вчера, она замешкалась
в пахнущих укропом и сухими березовыми вениками сенях, долго не могла отомкнуть
дверную задвижку.
– Дайте я сам, — сказал он, но, оттеснив её от двери, от задвижки, крепко прижал
к себе, и они поцеловались и стали целоваться горячо и желанно. И так, обнимаясь
и целуясь, они оказались за дощатой перегородкой, на кровати, на высоком соломенном
тюфяке, оставшемся здесь с лета, повалились на него и радостно и самозабвенно
отпраздновали тут свою внезапно и ярко вспыхнувшую любовь.
... А рано утром Ларешин споро шагал в сторону Кладова, лелея надежду на попутный
транспорт. За эти дни земля сильно подмёрзла, и дорога была жесткой, как асфальт,
по сторонам её серебрилась в инее полынь. В мутном рассветном воздухе полынь
казалась высокой, как ивняк. Было очень свежо, так что пока он выбрался из лодягинских
проулков на проселок, который пролегал чистым полем, холод выдул из него всё
избяное тепло, и стало казаться, что он идёт почти голым.
Озябнув, он невольно ускорил шаг, затем припустил и бегом и долго трусил между
мохнатых от инея кустов придорожной полыни, топая своими пляжными сандалетами
по жесткой, подмерзшей за ночь, похрустывающей дороге. Он бежал и изредка оглядывался,
отмечая, много ли одолел и не мчит ли следом какой-нибудь случайный грузовичок?
А между тем дорога вбегала в сосновый лесок, и Ларешин перед леском в очередной
раз оглянулся назад и неожиданно увидел мчавшегося по дороге человека на велосипеде.
Человек был в белой шапке, он раскачивался из стороны в сторону от быстрой езды
и был похож на белое плывущее облако, Ларешин глазам своим не поверил — это
катила Инга. Вот она подлетела к нему, спрыгнула на скорости с велосипеда, засмеялась:
– Ну, нарезает мой больной, на велосипеде не догонишь?
– Утренняя гимнастика? — радостно воскликнул Ларешин.
– Вы, наверное, прозябли, Пётр-Петрушка?
– Не так чтобы очень, — ответил он, стараясь не дрожать от холода. — Однако
же свежо, честное слово.
– Очень свежо, — подтвердила она. — А вы так легко одеты. Я боюсь за вас, Пётр-Петрушка.
– Пустяки, — бодро ответил он.
– Серьезно, очень боюсь. Ведь у вас температура. Опасаюсь — наживёте осложнение.
– Не опасайтесь. За кого вы меня принимаете!
– Ладно уж, за кого я его принимаю...
Она сняла с багажника объёмистый сверток и подала его Ларешину. Это был свитер
— синий, тяжелый, толстый, ручной работы. От него пахло речной свежестью, бельевой
корзиной, бабушкой.
– Зачем это? — притворно удивился Ларешин.
– Надевайте, да поскорее, — распоряжалась Инга. — Тогда узнаете — зачем... погреетесь...
– Но я уже согрет... вами.
Лицо Инги налилось краской возмущения.
– Нахал несчастный, — бросила она и хотела обидеться, но Ларешин тут же добавил:
– Согрет на всю дорогу, на всю жизнь.
Он произнёс эти слова с неподдельной искренностью, и ее обида мгновенно исчезла,
словно ушла внутрь и растворилась там.
Ларешин же продолжал бодриться. Он сказал, что это никакой не холод; вот на
службе, в Казахстане, приходилось ходить на учения в одной гимнастёрке, и это
при пятнадцатиградусном морозе с ветром.
– Довольно хвастаться, — неожиданно резко оборвала его Инга. — Наденьте сейчас
же, на моих глазах.
– Придётся надеть, — охотно покорился Ларешин и, скинув с себя потрёпанный спортивный
пиджачок, надел мягкий и тёплый свитер, который плотно облёк плечи и спину и
высоко, до подбородка прикрыл шею толстым воротником. А когда он натянул на
широковатый свитер свой пиджачок, стало совсем тепло.
– Как хорошо-то! — признался он. — В этом свитере — хоть на Северный полюс,
— и благодарно поцеловал Ингу в румяную щеку холодными, дрожащими губами. —
А я-то хорохорился... Умница !.. Великое вам спасибо. И как только догадались,
что я тут замерзаю.
– Признались, наконец.
– Признаешься, когда такой холодрыга, — усмехнулся он и стал обнимать и целовать
Ингу в щёки, в глаза, в губы.
– Вон кто-то едет, — остановила она его, хотя никто не ехал, просто ей хотелось
сказать, что как хорошо она догадалась привезти этот свитер, как он оказался
нужным Ларешину сейчас. — А я вышла утром во двор, смотрю — бело, иней на деревьях,
вода в кадушке льдом подёрнулась, подумала: замёрзнет мой Пётр-Петрушка, вспомнила
про этот свитер...
– Великое вам спасибо, — горячо благодарил Ларешин. — Вы меня просто спасли,
честное слово!.. А свитер я вам верну при первой же возможности, — пообещал
он. — Может, даже привезу. А если не тотчас отпустят на работе, вышлю по почте...
Да нет, привезу лично.
– Приезжайте, — сказала она. — Буду рада. Очень буду ждать. Но если будете высылать,
то адресуйте на медпункт: Кладовский район, почтовое отделение Лодягино, медпункт,
мне — Анохиной... Запомните: на медпункт! — И, оглянувшись по сторонам, кинула
ему руки на высокие плечи, крепко поцеловала в губы.
Этот поцелуй вызвал у Ларешина желание остаться в Лодягине еще на один день,
на неделю, на всю жизнь. Но впереди была так удачно начатая карьера!..
– Обязательно на медпункт, — повторила она, вскидывая на велосипед тугую, стройную
ногу.
Тогда ошалелому от счастья Ларешину не пришло в голову, почему Инга так настоятельно
просила выслать свитер именно на медпункт.
– Неужели это было? — вслух подумал он сейчас, поправляя под головой тощую гостиничную
подушку. — Как пролетело время!.. Тридцать лет!... Почти вся жизнь!
Часу в первом Ларешин, оторвавшись от воспоминаний, заснул и спал непривычно
долго для себя — до восьми часов. Проснулся с таким странным чувством, словно
украл у кого-то этот долгий, глубокий сон и проспал всё на свете. Торопливо
собравшись, он выбежал на улицу.
III
Районный город Кладов был невелик: десятка два улиц, две или три площади, тем
не менее Ларешин долго не мог попасть в больницу. Добрые кладовские жители охотно
показывали ему несколько дорог.
– Больница, вы спрашиваете?.. Новая больница?.. — отозвался первый прохожий
в сапогах и брюках-галифе, видимо, ветеран войны. — Это как же нам теперь к
ней добраться? — Он озабоченно почесал затылок под зеленым картузом. — Ага!..
Это, пожалуй, вот как! — доброжелательно воскликнул он. — Значит, идёте по этой
улице, упираетесь в контору связи, сворачиваете в левый переулок, доходите до
лесхоза, а там всё прямо и прямо...
Тут подошла полная женщина в кожаной куртке и мохеровом берете и с готовностью
предложила свой вариант:
– Дойдёте до ветеринарной аптеки, свернёте направо и — прямо.
Двухэтажное, длинное и приземистое здание больницы стояло за городом — среди
редких березок, издали похожее на хозяйственную постройку, вблизи оно выглядело
светлым и весёлым, как новый детский сад.
В тесном вестибюльчике у вешалки с мятыми белыми халатами для посетителей грузная
бабуся что-то вязала толстыми белыми спицами.
На вопрос Ларешина, работает ли в больнице Инга Анохина, бабуся, почесав спицей
в голове, ответила, что работает, что она у них старшая медсестра, только она
давно уже не Анохина, а Жеглова и что она сегодня выходная, и завтра выходная,
и будет в больнице только в понедельник.
– Не повезло, честное слово! — огорчился Ларешин. — Как быть-то?
– Если вам срочно — можно сходить домой, — посоветовала бабуся. — Адрес я вам
дам.
Бабуся достала из-под барьера большую коричневую тетрадь, нашла нужную страницу,
громко прочитала:
– Луговая, четырнадцать, Жеглова.
Ларешин записал адрес в блокнот, но сделал это из вежливости, так как домой
к замужней женщине он не пойдёт, мелькнула мысль уехать, но она сразу же была
отвергнута: вернуться, не повидав Инги! Мальчишество!.. Нет, надо подождать,
тем более ждать есть где — «люкс» все-таки... Как он проведёт эти двое суток?..
А так: днём он будет знакомиться с городом, читать газеты, возможно, сходит
в кино, вечером в своём номере будет смотреть телевизор. Ничего, проживёт...
Позавтракав, он сходил на почту и послал две телеграммы в свой город: одну —
на завод, другую — соседу по лестничной площадке Лёвочке, сообщая, что задерживается
в Кладове по личному делу, а остановился в гостинице под названием «Волга».
Потом ушел за город, бродил по пустынным полевым дорогам, по желтым, поблекшим
лугам.
На другой день прогуливался по городу — так, без определённой цели, время убивал,
не исключая, впрочем, возможности повстречать Ингу. Очень хотелось встретить
её на улице, одну...
В последнее время ему всё чаще и чаще приходила мысль, что он стареет (ведь
уже пятьдесят), и годы его уходят, и хотелось как-то попридержать их, жить медленнее,
осмысленнее, полнее, наслаждаться природой, встречами с интересными людьми,
просто лицезреть мир, памятуя банальную истину, что жизнь даётся один раз и
другой уже не будет. И он сейчас не сильно огорчался, что в жизни много времени
уходит на разные ожидания, всё-таки и ожидания — тоже жизнь, они тоже что-то
привносят в человека, рождают какие-то мысли, умозаключения, чувства. И вот
ожидание встречи с Ингой тоже привнесёт что-то. Как говорят, и отрицательный
результат — тоже результат.
Итак, он будет исследовать районный город, обстоятельно осматривать его улицы,
дома, ворота, палисадники, наслаждаться районной, а лучше сказать, уездной тишиной
и глубоко вдыхать в себя свежий, плывущий из окрестных лесов воздух. Ларешин
читал, что где-то настоянный на хвое воздух продают в баллонах.
Не дай Бог, что и у нас исчезнут вот эти хвойные мещерские леса, эти зелёные
жемчужины на нашей древней, многострадальной земле, и воздух тоже будут продавать
за деньги, как кока-колу, так что Ларешин воспользуется обстоятельствами и вволю
надышится здесь густым целебным воздухом, насладится природой... Вспомнилось,
что жители его города, Богданкевич, например, специально ездят семьями в Мещеру
дышать воздухом.
Кладов, как уже успел заметить Ларешин, был преимущественно деревянный, одноэтажный
и только на окраинах, местах в трёх-четырех белели каменные многоэтажки, издали
похожие на огромные куски рафинада, в центре же всё были дома в один-два этажа
— низ каменный, верх деревянный, они стояли плотно, что называется плечо к плечу,
без прогалов — дом, калитка, ворота, забор, кое-где в заборах виднелись ворота
гаражей, и так во всю длину улицы, до какого-нибудь переулка или поворота. А
над улицами, свешиваясь ветвями над тротуарчиками и мостовой, возвышались березы
и липы. В ряде мест они переплетались с ветвями деревьев, стоящих на противоположной
стороне, и представлялось, как летом, сросшиеся деревья образуют зеленые тоннели,
и это, должно быть, делает улицы живописными и уютными. Бросалось в глаза, что
почти все дома были крепки, основательны — обшиты тёсом, крыты железом, с аккуратными,
покрашенными в разные цвета палисадниками. И почти перед каждым домом стояли
телевизионные антенны, одна выше другой.
А вот скворечников, отметил Ларешин, было маловато, раз, два и обчелся, что-то
неприветливы стали мы к жизнерадостным, звонкоголосым птицам, приносящим весну
в наши захолодевшие зимой души. Оттеснили, заглушили их жестяные голоса, денно
и нощно гремящие из телевизоров...
А вообще городок производил неплохое впечатление. Чем-то добрым, уездным от
него веяло. Где-то здесь, на одной из прямых и узких его улицах живёт Инга.
Ходит на работу, в магазины... Так и кажется, сейчас она появится на улице с
хозяйственной сумкой или с ведрами около водоразборной колонки или мелькнет
в окне вот этого плотного, с оцинкованной крышей и нарядными наличниками дома.
И появилась мысль — купить в Кладове такой вот ухоженный домик, поселиться на
старости лет, сойтись с уютной, симпатичной женщиной, ухаживать за садом, возиться
с огородом, с какой-нибудь малой живностью и, главное, заняться дизайном — рисовать
вывески для магазинов и учреждений, делать стенды, писать какую-то значительную
картину.
Бродя по улицам, Ларешин пытался представить себе, как выглядел этот городок
сто-полтораста лет назад? Чем промышляли местные жители, чем кормили себя, во
что одевались, как справляли праздники, свадьбы, как хоронили своих сограждан,
где учили своих детей и часто ли ходили в церковь?..
Хотелось встретиться с кем-нибудь из старожилов — спросить, пообщаться. Вот
вышел бы, например, из этих высоких, окрашенных в бордовый цвет ворот пожилой
кладовский гражданин, приподнял бы фуражку, пригласил посидеть на скамеечке
около ворот, а может быть, позвал бы выпить чаю со смородинным вареньем...
Одна из улиц Кладова привела Ларешина на площадь, на которой стояла старая полуразрушенная,
давно уже отслужившая свое церковь. Она была без креста, без колокольни, с березками
на бурых кирпичных карнизах, с ржавыми железными дверями. Ларешин, преодолевая
сострадательную брезгливость, заглянул внутрь. Все здесь было обвалено, ободрано,
загажено. Только серые, из известняка, колонны стояли прямо и неколебимо, как
гигантские потухшие свечи, напоминая о старине, о былом величии. Ушло величие,
ушла красота. Вспоминался Рерих с его словами, что для художника нет ничего
страшнее, чем разрушенная красота. Вспомнился и Достоевский с его верой, что
красота спасет мир. «Что-то не спасает, Федор Михайлович, — мысленно возразил
Ларешин Достоевскому. — Видно, красота сама нуждается в спасении, ибо это самое
тонкое, самое хрупкое создание природы».
Неподалёку от церкви стоял киоск, и тут толпилась небольшая очередь, потому
что в киоске, помимо газет, продавали еще сигареты, значки, лезвия для бритв...
– О, я смотрю — у вас лезвия! — радостно промолвила молодая симпатичная женщина
в длинном до пят демисезонном пальто. — Мой благоверный давно ищет лезвия, хорошие
они?
– Не знаю, не брилась, — мрачно ответила пожилая киоскерша.
« А надо бы тебя побрить, — подумал Ларешин, — чтобы не грубила».
Накупив газет, он пошагал дальше по улице. Это была главная улица — Московская,
на ней было довольно много новых из белого кирпича двухэтажных зданий, в которых
размещались все больше районные учреждения — администрация района, редакция
газеты, банк, военкомат... Ларешин не мог не заметить, что вывески на учреждениях
были тусклые, какие-то безжизненные, и подумалось: как бы преобразилась главная
улица, если бы её украсить свежими, «художественно вкусными» вывесками! В пору
бы пойти к районному начальству и предложить свои услуги, сказать: «Давайте
я перепишу ваши вывески. И вы не узнаете этой улицы, она станет нарядной, как
улица большого города». Но вспомнились слова соседа Лёвочки: «Всякий предмет
должен иметь свой ранжир», иначе говоря, по неписаному установлению коммунальных
вождей вывески в районном городе не должны быть больше и наряднее вывесок на
улицах областного города, так что, Кладов, знай свой ранжир.
Но вот, к приятному удивлению Ларешина, книжный магазин Кладова этот ранжир
превышал. Тут были такие книги, которые редко увидишь в областном городе: Дюма,
Булгаков, Кристи...
От нечего делать Ларешин заглянул в новый, еще пахнущий масляной краской и свежим
раствором Дом быта и неожиданно был принят за какого-то приезжего начальника.
Едва он ступил под своды дома, как из закутка с вывеской «Приём одежды в химчистку»
выкатилась и подступила к Ларешину пожилая круглая женщина в плисовой куртке
с черным поношенным сапогом в руках.
– Вот вразумите их, товарищ уполномоченный, — махнула она сапогом в сторону
закутка. — Я сапог починить принесла, а они говорят: «Несите второй». Зачем,
говорю, второй — второй у меня исправный, а у этого подошва треснула пополам.
Говорю, замените и — все дела.
В раскрытой двери закутка появилась миловидная женщина с высокой причёской,
вступила в разговор.
– По одному сапогу мы в ремонт не берем, — сказала она, глядя в лицо Ларешина.
– Почему?
– А как я буду подошвы списывать? — спросила женщина. — Они у меня парные.
– Я ей говорю, — сказала женщина с сапогом в руках. — Поставьте одну подошву
— спишите две.
– Не имею права.
– Вот что с ними делать? — сказала женщина с сапогом, — пойду к Фильке, тот
не будет рассуждать, как подошвы списывать, поставит и всё тут.
– И правильно сделаете, что к Фильке пойдёте, — одобрил Ларешин и направился
в другой отдел с вывеской «Парикмахерская». И здесь он тоже стал свидетелем
конфликта, на этот раз конфликт произошел между весёлой, разбитной парикмахершей
и старым мужчиной с четырьмя рядами орденских планок на пиджаке защитного цвета,
дед чуть не плакал от огорчения. Он, оказывается, просил парикмахершу «только
чуть подобрать» а она отделала его под «бокс», почти не оставив волос.
– Стригла бы еще выше наголо, как призывника, — обиженно говорил дед. — Все
одно уж...
– Выше некуда, дедуля, — отвечала веселая парикмахерша. — Выше лысина... К тому
же «бокс» дешевле, чем «полька».
– В боксёра превратила ... да какой из меня боксёр!
Конфликты в Доме быта развлекли Ларешина и вместе с тем огорчили. «Вот она,
провинция», — думал он, шагая по главной кладовской улице.
Главная улица вывела его на площадь. Было воскресенье — базарный день — и на
площади в закрытом павильоне торговали мясом, мёдом, вяленой рыбой, свежей капустой,
сушеными грибами... Цены были невысокие, ниже, чем в городе, в котором жил Ларешин.
Неподалёку с легковых автомобилей люди с загорелыми лицами торговали свитерами,
вязаными платками, норковыми шапками, кроссовками, куртками. Цены на эти товары
были — не подступиться.
Тут же, на площади, продавали корзины, деревянные лопаты, топоры, решета, поношенные
вещи — сшитые в талию пальто, стоптанные ботинки, валенки, подержанные воротники,
кирзовые босоножки, пряжу.
В закрытом павильончике предлагали фрукты. Ларешин хотел было купить груш, но
их владелец запросил такую непомерную цену, что Ларешин отказался и купил яблок.
Это сильно обидело продавца груш и он стал ругаться, упрекая Ларешина, что он
не любит себя и друзей своих не любит, если они у него вообще есть. При этом
черные глаза хозяина груш метали огонь, усы топорщились. Ларешин покинул базар
— от греха подальше.
Как оказалось, в Кладове была еще одна церковь — действующая: белая, стройная,
с зелеными маковками, с весёлым позолоченным крестом. Но стояла она в плотном
окружении каких-то хозяйственных построек. Эти постройки загораживали церковь
со стороны улицы, но совсем загородить не могли. Церковь служила, жизнерадостно
и как-то хитро выглядывая из-за построек своим золоченым крестом и зелеными
маковками.
Ларешин подошел к церкви, осмотрелся. На площадке перед церковью стояло несколько
легковых автомобилей, украшенных разноцветными лентами. В низеньких зарешеченных
окнах церкви виднелись огоньки свеч. Слышалось церковное пение. Некоторое время
спустя из церкви вышли только что обвенчанные молодые: рослая, широколицая невеста
в белоснежной фате и рядом с ней жених — невысокий, красивый, с усиками, в черном
костюме, с белым цветком в лацкане пиджака, молодые и сопровождающие их лица
сели в автомобили, украшенные широкими лентами, и покатили на главную улицу,
как сказали толпившиеся у церкви пожилые женщины, возлагать венки к мемориалу
местных Героев.
... Ларешин закончил свою прогулку по городу в четвертом часу, проголодался
и прежде, чем идти в гостиницу, решил пообедать в «Уюте». Увы, на двери висела
бумажка, извещавшая, что кафе закрыто на обслуживание свадьбы. За дверью слышались
звуки баяна, топот, весёлые голоса.
«Какие стали свадьбы! — позавидовал Ларешин. — Прогулка по городу на автомобилях,
возложение венков к памятникам, фотоснимки новобрачных, их друзей и родственников»...
И вспомнилась своя свадьба. Строго говоря, никакой свадьбы и не было. Всё произошло
скоропалительно, на бегу, как будто кто-то гнал, словно это было такое рядовое
действо, которое не имеет решительно никакого значения в жизни человека. Свадьбы
с соблюдением народных обычаев и традиций в те времена считали мещанским пережитком,
дурным тоном. И бывали такие странные свадьбы, когда жениха в самый весёлый
час выводили из переднего угла и посылали в колхоз в качестве уполномоченного
проводить какое-то собрание, а к невесте подсаживали товарища жениха или родственника.
Жениху говорили: «Проведешь собрание, вернёшься, возьмёшь свою невесту — никуда
она не денется». Конечно, вспоминал Ларешин, и материальные возможности в то
время не позволяли особенно-то разгуляться, но чтобы свадьба без народных песен,
без прибауток, без пляски под гармонь, без обсыпания молодых хмелем, без битья
горшков, да еще в отсутствие жениха — это тоже не дело. Хорошо, что это уже
в прошлом.
IV
Обедал Ларешин в столовой лесного хозяйства, на другом конце города. Сидел одиноко
за столом в ожидании заказа и продолжал вспоминать свою скоропалительную свадьбу
и последующую супружескую жизнь.
Вспоминал и после обеда, вернувшись в гостиницу. Лежал полураздетый на не разостланной
постели и восстанавливал в памяти картины былого... Как сейчас помнит...
Стояла в вешняковском магазине за прилавком высоконькая, юная, с кроткими голубыми
глазами девушка по имени Тамара. Отпускала вешняковцам хлеб, водку, вермишель,
овощные консервы, терпеливо снося замечания по поводу скудости ассортимента.
Такая тихая, такая уважительная, такая нежная. Ларешин в то лето гостил в родных
Вешняках и увидел Тамару за три дня до конца своего двухнедельного отпуска.
А было ему в то лето уже двадцать семь лет, и он, не долго думая, и не посоветовавшись
с матерью и сестрой, предложил Тамаре свой союз. И он был очень тронут тем,
что вчерашняя десятиклассница приняла его предложение, не посмотрела на большую
разницу в возрасте, дала согласие. Свадьбу сыграть не оставалось времени, ее
оставили на «потом», и Ларешин вернулся в город сам друг — с молодой супругой.
После долгих поисков Ларешины нашли небольшую, благоустроенную квартиру. Её
хозяева уезжали по вербовке на Север, в город Апатиты на три года и сдали квартиру
за сносную плату. А вскоре для Тамары подвернулась приличная работа — её приняли
продавцом, а затем перевели экономистом в контору пищеторга.
После женитьбы разъездная работа методиста стала уже тяготить Ларешина: было
просто нелепо жить месяцами вдали от красивой жены. Поэтому он ушел с должности
методиста управления культуры и устроился художником в театр юного зрителя.
К этому времени он закончил заочную среднюю школу и поступил в художественный
институт на заочное отделение, и ему нужна была практика, близкая к избранной
в институте специальности. «Буду художником-дизайнером, — говорил он себе. —
Это красиво звучит!»
Он любил, чтобы было необычно, оригинально. Так, путеводной звездой для него,
начинающего художника, стало творчество знаменитого бутафора Пьетро Гонзаги.
В России были свои великие бутафоры — Александр Бенуа, Валентин Серов, Рерих,
Билибин, Гончарова, Сомов... Но Ларешина увлек тезка — Пьетро Гонзага, итальянец.
Он создавал удивительные занавесы. В них была не только живопись, но и философия,
и поэзия. Гонзага выдвинул идею создания спектаклей без актеров, с участием
одних только занавесов и декораций; говоря современным языком, он добивался
цветомузыки. Он творил из картона и холста — городские площади, дворцы, фонтаны,
лестницы. Это были почти настоящие города. И Ларешин загорелся идеей создать
для своего ТЮЗа необыкновенный, похожий на гонзаговский, занавес. Он учился
и работал как одержимый. И уже когда был, наконец, увиден свет в конце туннеля,
когда был получен диплом, Ларешин все еще просматривал учебную литературу, те
места в учебниках, которые он в заочной спешке изучал поверхностно, а то и просто
пропускал.
Некоторое время он еще продолжал работать художником в театре юного зрителя
и подрабатывал в кинотеатре...
И тогда и у Тамары возникло желание получить высшее образование. Она избрала
сельскохозяйственный институт, экономический факультет. Правда, Тамара была
очень слаба в математике, и было решено, что она пройдет через подготовительное
отделение. Это отделение имело ту важную особенность, что человек, успешно проучившийся
на нем год, механически зачислялся на первый курс института.
Тамара училась на подготовительном отделении охотно, с какой-то веселой старательностью.
И чувствовалось, что ей кто-то хорошо помогает в учебе. Впоследствии стало известно
— кто именно. Это был некий Вит. Вит — в обиходе Тамары, а в институтском миру
— Виталий Савельевич Гаранин, старший преподаватель математики. В институте
про него говорили, что он талантливый шахматист, более талантлив, чем математик,
а в городской шахматной федерации держались того мнения, что он очень сильный
математик, сильнее, чем шахматист. Короче говоря, среди математиков Вит слыл
шахматистом, а среди шахматистов — математиком. Но как бы там ни было, а его
имя вскоре зазвучало в маленькой, уютной квартирке Ларешиных.
– Вит так доходчиво объяснял нам сегодня тему «Графики и их функции!», — сказала
однажды Тамара, вернувшись домой несколько позже обычного, — что мы ему даже
аплодировали. Надо же!
В другой раз она с восторгом рассказала, как получила пятерку по логарифмам.
– Это прямо как во сне! У меня в школе никогда не было пятерки по алгебре.
А как-то в конце зимы перед женским праздником Тамара посетовала, что никак
не поймет Бином Ньютона и ей нужны дополнительные занятия.
– Вит сказал, что может помогать мне на дому... Петр, можно, он к нам придет?
– Один?
– Нет, с женой.
– С женой?.. Пусть приходит, — разрешил Ларешин.
Вит явился мартовским вечером с женой, и Ларешину сразу бросилось в глаза разительное
несоответствие между супругами. Вит был довольно высок, строен, с крепким смуглым
лицом и, несмотря на проседь в черной волнистой шевелюре, выглядел моложаво
и вместе с тем солидно. Его супруга же, Капитолина Михеевна, была мала ростом,
худощава, у нее было блеклое, увядающее лицо, слабый голос, большие, черные,
видимо, когда-то прекрасные глаза, слезились, и она казалась значительно старше
своего стройного и красивого супруга. Капитолина Михеевна работала научным сотрудником
областного историко-краеведческого музея, уверенно разбиралась в творчестве
отечественных и зарубежных художников, оказалась кладом для Ларешина, и он слушал
ее, почти не дыша. Вит же участия в разговоре об искусстве не принимал, откровенно
скучал при этом и уходил на кухню к Тамаре, где речь шла о биноме Ньютона и
об уравнениях с неизвестными, а также об извлечении корня. К тому же Вит умел
готовить рыбу по-польски и как-то уж очень мудрено заваривал чай...
Однажды Ларешин отважился познакомить Капитолину Михеевну со своими этюдами
и эскизами. Показал он и начатую картину, которая, по его замыслам, должна была
со временем заявить о нем как о настоящем, большом художнике... На картине изображалась
полуденная река в мелких волнах и облака над нею, подсвечиваемые ярким солнечным
лучом, а по реке шел буксирный пароход и тащил на длинном тросе старую деревянную
баржу. На барже, сгорбившись, стоял пожилой седоусый шкипер в черном мешковатом
кителе речника и печально глядел на берег, на реку, на весь мир. Картина называлась
«На слом». В то время старые деревянные баржи и гусяны на Оке заменялись быстроходными
сухогрузами. Замысел картины понравился Капитолине Михеевне. Она, однако, сделала
несколько замечаний, в частности, посоветовала Ларешину изобразить реку не полуденную,
как у него, а предвечернюю — это лучше работало бы на идею картины, больше соответствовало
печальному настроению старого шкипера с его уходящей на слом баржей. Ларешину
совет понравился, и он внес в картину изменения.
К его большому сожалению, Капитолина Михеевна приходила редко, а потом и совсем
перестала ходить, оправдывая это своим нездоровьем, и стал бывать один Вит.
А Ларешину с Витом было неинтересно. Вит не тяготел к искусству. Он говорил
про себя, что он раб математики. И, придя к Ларешиным, оставался с Тамарой на
кухне, пил крепкий чай и помогал молодой хозяйке овладевать алгебраическими
и тригонометрическими премудростями...
Пролетела весна, наступил июнь — время экзаменов. Тамара волновалась, беспокоился
и Ларешин. Все заботы по дому были на нем. Он поддерживал Тамару, как мог —
так хотелось, чтобы она успешно прошла подготовительные курсы и поступила в
институт!
Тогда бы они оба окончили вуз — такое красивое продолжение жизни: уроженцы глухой
деревни, дети бедных родителей без посторонней помощи получают высшее образование!..
И вот сдан первый экзамен, второй... Настал последний, решающий день — последний
экзамен...
Ларешин вместе с Витом сидели во дворе института, в скверике, нетерпеливо ждали
результата. Наконец, в третьем уж часу, из института выбежала сияющая, радостно-утомленная
Тамара, бросилась к обоим:
– Ну, все! Можете поздравить!..
И оба горячо поздравили ее с окончанием курсов, а Вит добавил, что Тамару можно
поздравить и с зачислением в институт. Тамара плакала от счастья, растерялась
и поцеловала их обоих — и Ларешина, и Вита... Тут же было решено сотворить семейный
банкет.
А через месяц произошел банальный и постыдный случай, как в старом-престаром
анекдоте... Ларешин поехал со своим ТЮЗом в соседнюю область на гастроли, но
там у него обострился гастрит, и он вернулся в город, показаться врачу. Он приехал
поздно вечером, не предупредив Тамару. Не постучавшись, открыл дверь своим ключом,
как это делал всегда, возвращаясь поздно вечером из театра, и глазам своим не
поверил — его Тамара лежала на кровати в тесных объятиях Вита. Увидев супруга,
Тамара взлетела нагая с кровати, впопыхах схватила первую попавшую в руки вещь
— это была клетчатая Витова рубаха — и стала прикрывать ею то низ живота, то
грудь.
– Ничего не было, ничегошеньки, — лепетала она и громко истерично всхлипывала.
— Ничего, клянусь... Он только пытался, только хотел, да не на ту напал...
Вит некоторое время тихо лежал под одеялом, отгородившись от суетного мира подушкой
и обдумывая положение, но вскоре тоже поднялся. Однако, в отличие от Тамары,
держался спокойно, деловито. Накрывшись простыней, стал искать свои штаны и
рубаху, говоря при этом что-то невнятное. Ларешин бросился было к нему с кулаками,
но был сильно оттолкнут к кровати.
В ту ночь Ларешин ушел из дома и долго, до рассвета бродил по городу, сжимая
кулаки, плача и кляня Тамару с её Витом, утром он набрёл на дом Кирика и рассказал,
что произошло.
– Ну и правильно сделал, что ушел, — сказал практичный и циничный Кирик. — Давно
надо было задом об зад стукнуться и — кто дальше улетит. Мы все тут, вешняковские,
удивлялись, как еще ты на ней, такой, женился. Ведь давалка. Рассказывали, что
она почти до самой свадьбы с председателем сельпо жила. Сегодня всю ночь в амбаре
— с Сорокиным спала, а утром с тобой брак регистрировать пошла... Как ты этого
не мог заметить? Ну, не жалей. Лучше найдёшь.
И всё-таки, как потом подумал Ларешин, надо было остаться в квартире. Ему остаться,
а ей уйти со своим садуном. Тогда не было бы таких сложностей, какие ему пришлось
перенести. Вот бы как следовало поступить, стал махать кулаками после драки
Ларешин. Как обычно, он бывал очень умён задним числом.
Когда он застал эту шкуру в постели с пресловутым Витом и она, застигнутая,
что называется с поличным, стала суматошно метаться по комнате, пытаясь одеться,
Ларешин должен был решительно и корректно сказать ей: «Не суетись, мадам. Одевайся
в своё платье, а то Витова рубаха тебе велика. Оделась? А теперь очисть помещение.
Это и тебя, Вит, касается. Да в темпе, в темпе, давайте. И, как говорится, гуд
бай!»
И всё бы это Ларешин исполнил с чувством собственного достоинства, не срываясь
на высокие ноты. И они бы ушли, а он бы остался и не бедствовал бы потом из-за
жилья, не мотался бы по углам и общежитиям. С него хватило бы переживаний из-за
её подлой измены.
... В десятом часу к Ларешину постучали. А он только что заснул и долго не мог
понять, где это стучат, зачем... Наконец догадался, вскочил с кровати, открыл
дверь. Перед ним стоял пожилой мужчина с широким, в глубоких складках лицом,
в бесформенной шляпе, в защитном плаще с капюшоном на спине, с большим портфелем.
– Ваш гостиничный сосед, — объявил мужчина и вступил в номер. — По фамилии —
Старожилов, по имени — Павел, по отчеству — Егорыч.
По тому, как уверенно вошел он в помер в широких, растоптанных ботинках, как
хозяйски пристроил на вешалку свой дождевик, как накинул на спинку стула свой
серый грубошерстный пиджак, как затем, повесив на шею застиранное гостиничное
полотенце, отправился в туалет, стало понятно, что это бывалый в командировках
человек. Вернувшись из умывальника, Старожилов сел на неразостланной постели
— грузный, седовласый, похожий на баснописца дедушку Крылова. Посидев, ткнул
в тощую подушку мясистым кулаком, сказал:
– А!.. Тридцать две тысячи!.. А душ не работает, туалет загажен, горячей воды
нет, а деньги берут вон какие!
Ларешин неопределенно пожал плечами. Он уже перестал удивляться высоким ценам,
благо хорошо зарабатывал и устал возмущаться.
– Дальний? — поинтересовался Старожилов.
Ларешин ответил: из соседнего, большого города.
– А я, можно сказать, местный, из этой же области, только с другого конца...
Не за картошкой?
– Нет, не за картошкой, по личным делам.
– А я полагал — за картошкой. Сейчас сюда все налаживают за картошкой.
– А вы тоже за картошкой? — поинтересовался Ларешин.
– Нет, не за картошкой, — ответил Старожилов. — Мне тут нужен кирпич.
– Но, по-моему, здесь нет кирпичного завода.
– А мне, можно сказать, тут кирпича и не надо. Мне нужен лес.
– Не понял: кирпич или лес?
– Лес!.. В Кладове мне нужен лес. А лучше сказать, и лес мне не нужен. Лес нужен
одному воронежскому хозяйству.
– Ну а вы тут при чём?
– А при том, что воронежское хозяйство даст мне за круглый лес подсолнечное
масло.
– Но вы сказали вначале, что вам нужен кирпич?
– Правильно, кирпич. Но для этого я должен иметь подсолнечное масло, это масло
я препровожу в Дзержинск, химикам, можно сказать, подмажу их, а они мне дадут
кирпич. Понятно, ай нет?
– Эх, черт возьми, зигзаги какие! А поближе-то кирпича нету?.. Чтобы зигзаги-то
не делать.
– Почему — нету? Есть. В Скопине, например. Но там кирпич белый, силикатный,
а мне нужен огнеупорный, для футеровки печи.
– Вы с промышленного предприятия какого-то?
– Да, с кондитерской фабрики.
– Господи! Оказывается, есть еще промышленные предприятия , которые чего-то
строят!
– Да, котельную строим, так вот нужен огнеупорный кирпич. Мы — по бартеру. Знаете,
что это за фокус? Вот-вот.
Ларешин выпил снотворного, стал засыпать. Захрапел и Старожилов. Захрапел так,
что стакан на тумбочке зазвенел. Похрапев немного, Старожилов, не открывая глаз,
сказал:
– Нет, представляете, тридцать две тысячи за номер!
V
Наконец-то наступил понедельник...
Ларешин проснулся рано, в хорошем настроении, сделал лёгкую гимнастику, тщательно
выбрился своей любимой, подаренный ему сослуживцами ко дню его пятидесятилетия
электробритвой «Эра», ополоснулся до пояса и, отложив завтрак на потом, отправился
по своему делу.
Раздевалка поликлиники к его приходу была уже вся завешана куртками, фуфайками,
плащами; головных уборов не было, ибо, как сказала гардеробщица, поликлиника
за сохранность шапок ответственности не несет. Ларешин все-таки навязал шляпу
гардеробщице, сказав, что нынче на шляпы охотников нет.
Раздевшись, он причесал черные, с густой проседью и, увы, уже сильно поредевшие
волосы, падающие жидкими прядями на уши, подавил вздох по поводу морщинистых
мешков под глазами и, волнуясь, стал подниматься на второй этаж.
Продолжение следует.

Екатерина Холмогорская. Ноктюрн. Лицей Искусств.
|
|